«Я — писатель-археолог, потому что раскапываю сюжет, который уже существует»
Интервью с Джезебел Морган
Автор «Квиллибрис» Ульяна Скибина поговорила с писательницей Юлией Рубиной, пишущей под псевдонимом Джезебел Морган, о ретеллингах, писателях-археологах, творческих псевдонимах и интерактивных рассказах.
- Об автореДжезебел Морган — современная русскоязычная писательница, автор дилогии «Иди через темный лес», романа «Самое красное яблоко» и сборника рассказов «Когда не горят костры», а также множества одиночных рассказов и стихотворений.
— Джезебел, расскажите, пожалуйста, как начинался ваш писательский путь.
— Я уже точно не помню, когда впервые начала сочинять, сейчас уже кажется, что пишу всю жизнь. Первые истории тайком писала на уроках в толстой тетрадочке, чтобы потом обменяться ими с подругой. Что-то более серьезное начала сочинять к концу школы, тогда же начала впервые выкладывать истории на Самиздат, о чем сейчас сильно жалею — интернет, увы, помнит все, а ранние вещи были откровенно слабыми. С другой стороны — они дали мне опыт, в том числе и первый опыт публичности. Потом я как-то незаметно перешла на стихотворения, и долгое время больше писала их, чем прозу, и к первому курсу уже несколько в поэзии преуспела — правда, маленькую местечковую премию получила все равно за прозаические зарисовки.
— Как появился ваш псевдоним? Почему вообще решили писать под иностранным псевдонимом? И как относитесь к мнению, что русскоязычным авторам несерьезно писать под иностранными псевдонимами?
— Изначально это было имя персонажа на форумной ролевой, потом с тем же ником я вела блог и подписывала им стихи и рассказы, и в итоге ник прижился и стал псевдонимом. И когда мои книги попали в издательство, я не стала менять псевдоним, поскольку многие читатели знали меня именно под ним. К тому же, мне самой так комфортнее. Обращать внимания на тех, кто кривит носик, видя иностранный псевдоним у ру-автора, я не собираюсь.
О других авторах ничего не скажу — каждый подписывается так, как ему комфортно. Единственное, что не одобряю, это когда псевдоним — требование издательства, а не души автора.
О других авторах ничего не скажу — каждый подписывается так, как ему комфортно. Единственное, что не одобряю, это когда псевдоним — требование издательства, а не души автора.
— С чего начинается работа над книгой?
— Всегда — с идеи, причем идея может вариться в голове долгое время и даже не добраться до бумаги. Если спустя какое-то время я ловлю себя на том, что продолжаю эту идею обдумывать, то начинаю собирать матчасть, искать романы, схожие по концепции, сеттингу или атмосфере с тем, что я придумала. А дальше жду, когда в воображении достаточно ясно сформируется сюжет книги в общих деталях — или хотя бы первая яркая сцена.
— Как строится процесс написания книги? Вы ― писатель-садовник или писатель-архитектор?
— Пожалуй, ни то, ни другое. Мне нужен план — но только на ближайшие пару глав, и уже от них будет зависеть, во что вырастет сюжет дальше.
Как-то раз Наталия Осояну рассказала о писателях-археологах — тех, кто очень много «раскапывает» матчасть. Меня зацепил этот образ, вот только применительно к себе я его переформулировала — я писатель-археолог, потому что раскапываю сюжет, который уже существует. Я представляю, что сюжет — это скелет тираннозавра: здесь голова, примерно там хвост, копаем отсюда и до обеда. А потом иногда у тираннозавра откапываются еще пара голов и крылья, и я такая — ой, кажется, это все же был Змей-Горыныч.
Как-то раз Наталия Осояну рассказала о писателях-археологах — тех, кто очень много «раскапывает» матчасть. Меня зацепил этот образ, вот только применительно к себе я его переформулировала — я писатель-археолог, потому что раскапываю сюжет, который уже существует. Я представляю, что сюжет — это скелет тираннозавра: здесь голова, примерно там хвост, копаем отсюда и до обеда. А потом иногда у тираннозавра откапываются еще пара голов и крылья, и я такая — ой, кажется, это все же был Змей-Горыныч.
— Вы пишете рассказы, романы, стихотворения. С какой формой работать интереснее всего?
— Каждая форма по-своему интересна и по-своему сложна, так что не могу сказать, что отдаю какой-либо предпочтение. Правда, очень плохо получается совмещать работу над ними. Всегда выходило так, что если я в какой-то период активно пишу прозу, то почти нет вдохновения на стихотворения — и наоборот. Правда, если поэтический опыт помогает работать с прозой, ее ритмом и стилем, то навыки создания прозы не помогают писать стихи.
— Что для вас самое простое и самое сложное в сочинении?
— Самое простое всегда — придумать. Собирать сюжет, копаться в персонажах, искать матчасть. Это — и самое приятное, погружение в историю с головой. А самое сложное — собственно написание истории, особенно когда не покидает ощущение, что «в голове было лучше». Иногда удается поймать волну и наслаждаться процессом, но чаще — это сложная и утомительная работа, и я очень редко бываю ею довольна.
— Как справляетесь с этим состоянием? И как решаете, что книга закончена, если осталось ощущение неудовлетворенности?
— К сожалению, иногда приходится просто смириться с тем, что идеал недостижим, потому что выбор прост: либо держать историю в столе, годами к ней возвращаться, редактировать и все равно множить чувство неудовлетворенности, либо отпустить историю и себя, переключиться на что-то другое. Потому что развитие приносят только новые впечатления и новый опыт.
— Я знаю, что вы любите экспериментировать с сеттингами. С каким сеттингом хотели бы поработать, помимо уже охваченных?
— Сложно сказать, я никогда не ставлю себе задачи «непременно написать киберпанк, постап или сай-фай». Обычно сеттинг определяется идеей и отдельно от нее в моей голове не существует. Но если потеоретизировать, то мне было бы интересно написать что-то в жанре магического реализма или антиутопии. Или одновременно.
Больше всего мне, как читателю, нравятся сеттинги с неожиданными деталями, которые ломают привычные шаблоны и смешивают несмешиваемое. Но чем шире кругозор, тем сложнее найти для себя что-то яркое и необычное, что заворожит и заставит создать что-то свое.
Больше всего мне, как читателю, нравятся сеттинги с неожиданными деталями, которые ломают привычные шаблоны и смешивают несмешиваемое. Но чем шире кругозор, тем сложнее найти для себя что-то яркое и необычное, что заворожит и заставит создать что-то свое.
— «Вслед за змеями» основан на сказах Бажова, «Самое красное яблоко» содержит элементы кельтской мифологии, «Рябиновый год» — славянская мифология. Чем вас привлекают мифы и с какой мифологией было бы интересно поработать?
— Работа с мифами подобна калейдоскопу — чуть изменишь угол зрения, и рисунок меняется, превращаясь во что-то совершенно новое. Это завораживает. Так что скорее мифы и ретеллинги для меня некоторый вызов — а смогу ли я создать что-то новое и красивое так, чтобы первоисточник остался узнаваемым?
Но дальше работать с мифологией я пока не планирую — хочется попробовать что-то новое. Я, конечно, понимаю, что абсолютно новое и необычное написать практически невозможно (на своей памяти я встретила только два произведения с самобытным сеттингом: это трилогия «Танцующая с Ауте» Парфеновой и «Многорукий бог далайна» Логинова), но попробовать хочется. Это тоже вызов моим навыкам.
Но дальше работать с мифологией я пока не планирую — хочется попробовать что-то новое. Я, конечно, понимаю, что абсолютно новое и необычное написать практически невозможно (на своей памяти я встретила только два произведения с самобытным сеттингом: это трилогия «Танцующая с Ауте» Парфеновой и «Многорукий бог далайна» Логинова), но попробовать хочется. Это тоже вызов моим навыкам.
— «Самое красное яблоко» также — ретеллинг сказки о Белоснежке. Как пришла эта идея? Что для вас важно в ретеллинге и какие ваши любимые книги в этом жанре?
— «Самое красное яблоко» родилось банально. Я прочитала «Снег, зеркало, яблоко» Нила Геймана и подумала, что было бы круто написать подобный мрачный красивый рассказ, но про фейри. Изначально «Самое красное яблоко» и должно было быть рассказом, в центре которого – исключительно вражда с фейри, но в какой-то момент я отложила текст, потому что он не получался. Вернулась к нему спустя почти шесть лет: в очередной раз перечитывала черновик, и внезапно поймала образ несущегося из темноты поезда и людей, фанатично поклоняющихся прогрессу. И так простенькая сказочка о фейри превратилась в историю о противостоянии двух стран, магии и прогресса.
От первоначальной сказки осталось мало, но я и сама люблю такое в ретеллингах. Они должны привносить в историю что-то новое и необычное: новую мораль, взгляд с иной, неожиданной стороны. Пожалуй, одна из лучших прочитанных мною книг в этом жанре – «Белая королева» Евгении Сафоновой.
От первоначальной сказки осталось мало, но я и сама люблю такое в ретеллингах. Они должны привносить в историю что-то новое и необычное: новую мораль, взгляд с иной, неожиданной стороны. Пожалуй, одна из лучших прочитанных мною книг в этом жанре – «Белая королева» Евгении Сафоновой.
— У «Самого красного яблока» и дилогии о Финисте уже есть переиздания в сериях «Магистраль» и «Хиты Young Adult. Коллекция». Расскажите о вашем опыте переиздания книг.
— Интересным был опыт переиздания Лесной дилогии, когда вместе с редакторами мы подбирали художника, чей стиль подойдет мрачной атмосфере книги. Лично для меня самым сложным оказалось выбрать эпизоды для иллюстрирования и составить техническое задание на них, это всегда моя боль. Очень рада, что получилось сделать для каждой главы уникальный маленький рисунок, я считаю, что именно такие детали и «оживляют» историю.
Про переиздание «Самого красного яблока» в серии «Магистраль» я узнала, когда его уже анонсировали. Получился очень приятный сюрприз (улыбается). Мы долго обсуждали, какие детали должны быть на обложке. Мне очень нравится общий стиль оформления книг в «Магистрали», и я ждала с нетерпением, когда обложку согласуют. В результат я влюблена, особенно в снежинку среди шестеренок, и, честно говоря, обложка от «Магистрали» нравится мне даже больше обложки первого издания.
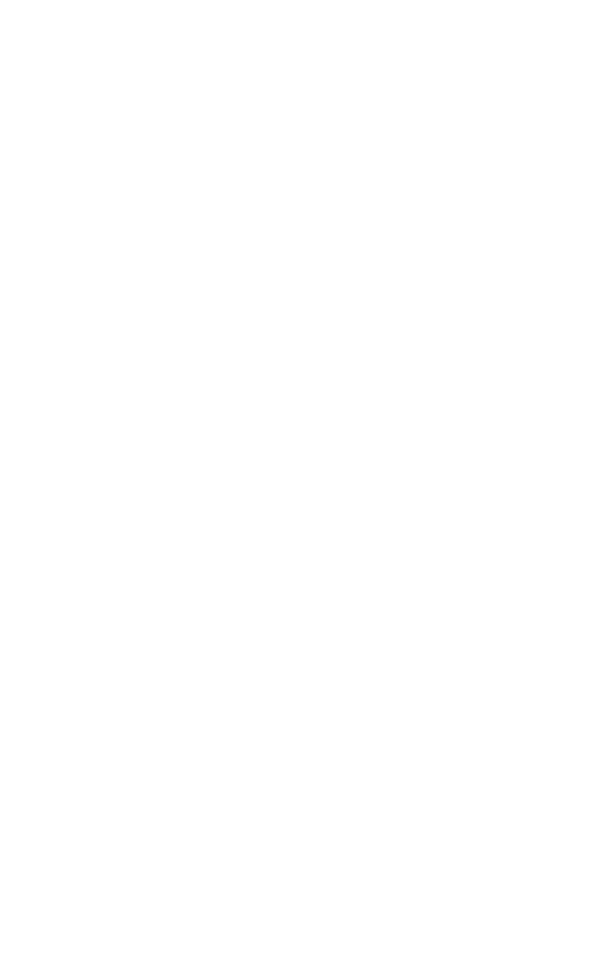
— Вы предпочитаете концентрироваться на одном тексте или пишете несколько работ параллельно?
— Не то чтобы концентрируюсь, скорее — не могу писать параллельно разные вещи. Я могу легко обдумывать несколько идей, собирать матчасть к разным книгам, но вот одновременно писать тексты, которые не относятся к одной истории уже не могу, выпадаю из так называемого «потока» и потом долго пытаюсь вернуть настрой, необходимый для каждого конкретного текста. И если во время работы над крупной историей нужно отвлечься и написать рассказ для конкурса или сборника, то проще отложить основную историю в сторону и вернуться к ней позже, когда закончу с рассказами. Правда, чаще я все же пишу без состояния «потока», вдумчиво и сознательно, взвешивая слова, но все равно в некоторые сцены проваливаюсь с головой, когда пальцы не поспевают за мыслью. В итоге иногда получаются смешные описки, вроде «улыбнулась дрожащими руками» или «бросил на нее обеспокоенный шкаф». А один раз я так увлеклась, что едва не опоздала в офис.
— Как работаете над матчастью?
— В целом, банально — ищу и читаю. Иногда, правда, приходится перелопатить несколько источников, чтоб осознать, что ищу не то и не там, но даже такая информация не бывает бесполезной. Вообще далеко не все, что я изучаю для написания книг, находит в них отражение, чаще всего просто дает мне необходимую опору, чтобы оттолкнуться от нее для дальнейших поисков.
Например для «Рябинового года» я прочла несколько книг по Руси X-XII века (грустно помолчим о том, как сложно найти подробную матчасть по этому периоду, не сводящуюся к пересказу исторических событий и летописей), только чтобы понять, что мне не подходит временной период и нужно искать информацию о более поздних временах.
Еще обязательно читаю художественные книги по близким темам, чтобы взглянуть, как другие авторы работают с интересующим меня сеттингом, и понять, а чего я хочу от своей истории.
Например для «Рябинового года» я прочла несколько книг по Руси X-XII века (грустно помолчим о том, как сложно найти подробную матчасть по этому периоду, не сводящуюся к пересказу исторических событий и летописей), только чтобы понять, что мне не подходит временной период и нужно искать информацию о более поздних временах.
Еще обязательно читаю художественные книги по близким темам, чтобы взглянуть, как другие авторы работают с интересующим меня сеттингом, и понять, а чего я хочу от своей истории.
— Кто из писателей повлиял на ваше творчество?
— Я не уверена, что могу назвать какие-то конкретные имена. У меня есть любимые авторы, чей подход к историям мне импонирует, но я не могу сказать, что они на меня повлияли. С тем же успехом можно сказать, что на меня и мое творчество влияет каждая прочитанная книга, которая мне нравится.
К тому же довольно часто бывает так, что на меня произвела впечатление только одна книга автора и я постоянно возвращаюсь к ней, но желания познакомиться с другим творчеством этого автора нет — так, например, у меня с «Дочерью железного дракона» Майкла Суэнвика.
К тому же довольно часто бывает так, что на меня произвела впечатление только одна книга автора и я постоянно возвращаюсь к ней, но желания познакомиться с другим творчеством этого автора нет — так, например, у меня с «Дочерью железного дракона» Майкла Суэнвика.
— Что для вас важно в работе над текстом?
— Чтобы меня не отвлекали и не подгоняли. Дедлайны, конечно, очень вдохновляют и мотивируют, но в последнее время замечаю, что историям необходимо отлежаться, особенно, когда спотыкаюсь на каких-то моментах. Лучше пусть текст годик-другой полежит в ящике стола, но я найду решение и буду довольна написанным, чем если я пообещаю сдать текст к сроку и мне придется использовать сюжетный ход, подобранный наспех.
Так что, пожалуй, самое важное, чтобы история получилась так же хорошо, как я ее представляла — или даже еще лучше. Чтобы прослеживалась идея, чтобы герои росли и менялись, чтобы хотя бы мне история и работа над нею дали больше, чем отняли. В идеальном мире, конечно же, — чтобы и читатели сказали, что мои книги стали для них чем-то более важным, чем просто развлечением на вечер.
Так что, пожалуй, самое важное, чтобы история получилась так же хорошо, как я ее представляла — или даже еще лучше. Чтобы прослеживалась идея, чтобы герои росли и менялись, чтобы хотя бы мне история и работа над нею дали больше, чем отняли. В идеальном мире, конечно же, — чтобы и читатели сказали, что мои книги стали для них чем-то более важным, чем просто развлечением на вечер.
— Вы говорили, что интересуетесь визуальными новеллами. Чем работа над новеллой отличается от работы над романом или рассказом? Хотите ли попробовать себя в гейм-индустрии?
— Как раз визуальные новеллы мне не особо интересны сами по себе, не мой формат: либо мне сюжет не нравится, либо рисовка, либо и то и другое. Скорее, мне интересно испытать свои силы в том, чтобы адаптировать какой-нибудь рассказ под такой формат без ущерба для истории. Это требует совершенно другого подхода: оставить одни диалоги будет явно недостаточно, синтез иллюстраций и текста должны вместе создавать сюжет. Правда, браться за такой проект без хорошего художника в напарниках глупо.
Мне интереснее сейчас работать с интерактивными рассказами, в которых сюжет меняется в зависимости от действий читателя, позволяя глубже погрузиться в историю. К тому же меня завораживает работа с развилками, условиями и переменными, словно я собираю огромный пазл, в котором нельзя ошибаться. Пожалуй, для меня вся магия в этом — ну, еще, может быть, в том, чтобы развилки сюжета только обогащали читательский опыт, позволяли взглянуть на историю с новой стороны и давали повод для перечитывания.
С гейм-индустрией… сложно. Как любой творческий человек я предпочла бы работать над своими проектами, чтобы они приносили мне радость и удовольствие. Либо сценаристом в компании, которая создает партийные РПГ — я сама люблю играть преимущественно в такие игры и создавать хотела бы их же.
Мне интереснее сейчас работать с интерактивными рассказами, в которых сюжет меняется в зависимости от действий читателя, позволяя глубже погрузиться в историю. К тому же меня завораживает работа с развилками, условиями и переменными, словно я собираю огромный пазл, в котором нельзя ошибаться. Пожалуй, для меня вся магия в этом — ну, еще, может быть, в том, чтобы развилки сюжета только обогащали читательский опыт, позволяли взглянуть на историю с новой стороны и давали повод для перечитывания.
С гейм-индустрией… сложно. Как любой творческий человек я предпочла бы работать над своими проектами, чтобы они приносили мне радость и удовольствие. Либо сценаристом в компании, которая создает партийные РПГ — я сама люблю играть преимущественно в такие игры и создавать хотела бы их же.
— Есть ли у вас писательские ритуалы?
— Постоянных нет, но довольно часто я включаю себе музыку, пока пишу. Я не собираю плейлисты для погружения, наоборот, для фона я стараюсь включить что-то абстрактное, что не особо подходит истории. Чаще всего это OST из фильмов или игр. Так, например, почти половина рассказов из сборника «Когда не горят костры» написана под OST Дюны и игры «Warhammer 40,000: Rogue Trader».
— Вы пишете по вдохновению или у вас есть строгая норма слов, которую нужно написать за день?
— В зависимости от настроения практикую оба этих подхода. Когда горит дедлайн, я конечно, устанавливаю себе комфортную норму слов и пишу ее. Но потом делаю перерыв, когда не пишу ничего, кроме планов или заметок, и жду либо вдохновения, либо очередного дедлайна. Сейчас, к сожалению, именно такой период: я понимаю, что жесткая норма мне ничем не поможет, только заставит нервничать, когда я в очередной раз споткнусь в сюжете. Так что пишу, как пишется, и не гонюсь за скоростью. Увы, в современном книгоиздании это не самый здравый подход.
— Если можно, уточните, пожалуйста, какая у вас комфортная норма слов?
— Обычно это от 500 до 1000 слов, но я все равно стараюсь чуть-чуть превышать норму, чтобы себя похвалить. Иногда получается значительно больше, но это разовые случаи, и бывают они, когда я пишу особенно важную и напряженную сцену.
— Знакомы ли вам писательские страхи и сложности: писательский блок, творческий кризис, синдром самозванца? Если да, как преодолеваете?
— Честно говоря, из всего этого сталкивалась только с писательским блоком, но в одном случае нужно было просто посидеть подумать подольше (или дождаться, когда трехмерный пазл сюжета в голове сложится), а в другом случае был не писательский блок, а отсутствие мотивации.
Вот, пожалуй, недостаток мотивации мне и кажется одной из сильнейших сложностей на писательском пути, особенно, когда с опытом и разочарованием исчезают амбиции. Бывают моменты, когда хочется расслабиться и схалтурить, но я всегда напоминаю себе, что планку опускать нельзя, будет стыдно в первую очередь перед собой.
Вот, пожалуй, недостаток мотивации мне и кажется одной из сильнейших сложностей на писательском пути, особенно, когда с опытом и разочарованием исчезают амбиции. Бывают моменты, когда хочется расслабиться и схалтурить, но я всегда напоминаю себе, что планку опускать нельзя, будет стыдно в первую очередь перед собой.
— Как вы считаете, полезны ли начинающим авторам книги по развитию писательского мастерства? Читали ли вы их, и, если да, какие можете порекомендовать?
— Читала много разных, но назвать их незаменимыми язык не повернется. Никакая книга по писательскому мастерству не поможет, если не читать и не писать. Самыми лучшими, на мой взгляд, были те книги, которые помогали упорядочить интуитивные знания или обращали внимание на те детали, которые казались слишком обыденными и очевидными, чтобы осознать их важность. В общем, внушительный читательский багаж и хорошие способности к анализу способны помочь на тернистом авторском пути куда лучше, чем сотни книг по писательскому ремеслу.
Вот те, которые показались мне более-менее полезными:
Владимир Пропп «Морфология волшебной сказки» и Кристофер Воглер «Путешествие писателя» — чтобы осознать, что набор кубиков у всех одинаковый, а уж что из них сложить — зависит от вашей фантазии.
Джим Батчер «Писательское ремесло» и Кэти Мари Уэйланд «Архитектура сюжета» — чтобы понимать, как работает сюжет и какие самые частые ошибки встречаются у неопытных писателей.
И, конечно, Нора Галь «Слово живое и мертвое» — многие примеры уже устарели, но гораздо больше тех, что все еще актуальны. И опять же, это теория, которая позволяет при чтении обращать внимание на авторский инструментарий, чтобы потом применить его в своем опыте.
Вот те, которые показались мне более-менее полезными:
Владимир Пропп «Морфология волшебной сказки» и Кристофер Воглер «Путешествие писателя» — чтобы осознать, что набор кубиков у всех одинаковый, а уж что из них сложить — зависит от вашей фантазии.
Джим Батчер «Писательское ремесло» и Кэти Мари Уэйланд «Архитектура сюжета» — чтобы понимать, как работает сюжет и какие самые частые ошибки встречаются у неопытных писателей.
И, конечно, Нора Галь «Слово живое и мертвое» — многие примеры уже устарели, но гораздо больше тех, что все еще актуальны. И опять же, это теория, которая позволяет при чтении обращать внимание на авторский инструментарий, чтобы потом применить его в своем опыте.
— Над чем работаете сейчас и какие ближайшие творческие планы?
— Собственно, медленно и печально пишу «Рябиновый год» и уже даже не пытаюсь загадывать, когда его закончу. Это позволяет наслаждаться процессом, а не нервничать из-за того, что надо закончить быстрее-быстрее, издательство же ждет!
Параллельно верчу сборник коротких зарисовок о космической псевдо-Японии, вокруг которой псевдо-варп. У этой истории пока толком нет ни названия, ни сюжета, но может со временем это превратится в историю мести, написанную в стиле «Записок у изголовья» Сэй-Сенагон.
О дальнейшем пока не загадываю, мало ли что еще поменяется.
Параллельно верчу сборник коротких зарисовок о космической псевдо-Японии, вокруг которой псевдо-варп. У этой истории пока толком нет ни названия, ни сюжета, но может со временем это превратится в историю мести, написанную в стиле «Записок у изголовья» Сэй-Сенагон.
О дальнейшем пока не загадываю, мало ли что еще поменяется.
— Что нас ждёт в романе «Рябиновый год»?
— Я не очень хорошо умею рассказывать об историях, которые все еще пишу, но попробую. «Рябиновый год» — это несколько сюжетных линий, герои, которые мнят себя умничками, но получают от судьбы по носу, атмосфера надвигающейся беды, интриги волхвов, хитрые планы богов и, конечно, зомбиапокалипсис. Среди главных героев — юная дочь воеводы, которая мечтает доказать отцу, что она лучше и умнее брата (хотя доказывать ничего и не надо). Ее друг детства, степняк, который отмечен богиней-Степью и предназначен ей в жертву. И еще одна героиня, из дочерей моря, которая выйдет на сцену несколько позже, но от которой будет зависеть очень и очень многое.
— Какой совет вы бы дали начинающим писателям?
Не опускать руки, писать много и разное, читать много и разное. И обязательно быть честным собой в вопросах творчества, чтобы всегда помнить, что важнее.
Интервью взяла: Ульяна Скибина
Фотоматериалы: из личного архива Джезебел Морган
Дата публикации: 19.07.2025
Фотоматериалы: из личного архива Джезебел Морган
Дата публикации: 19.07.2025
Читайте также
